|

Автор: Nataliza
Тридцать второе августа
Коридоры, двери, решетка. Достать удостоверение, раскрыть, показать. Долгий изучающий взгляд. Лязг замка, сдать оружие, поднять руки. Быстрое прохлопывание карманов, кивок, и двадцать три шага. Дверь. Сердце стучит странно медленно. Ну, толкни же. Войди. Черт, колени дрожат. Руки взмокли. Жжет сквозь ткань тонкий моток в кармане. Сколько раз представлял себе эту минуту, в разных вариантах, прокручивал в мозгу, и вот - пора.
В комнате полумрак. Она кажется пустой. Нечеткими силуэтами угадываются контуры убогой обстановки допросной, но яркий свет лампы заставляет видеть только одно. Пришпиленный булавкой света, перед столом на обшарпанном стуле сидит застывший, как изваяние, парень. Боевик. Знаю, он тут не один. Подхожу и протягиваю руку тому, кто находится по другую сторону стола. Мне отвечают крепким рукопожатием.
- Олег, ты уверен, что сдержишься? Учти, я не смогу прикрыть, если что.
Киваю. Уверен, что если не сдержусь, мне не нужно будет прикрытие. Я сдал оружие, но моему врагу это не поможет. Капитан мнется, сомневается, я его понимаю - решение принимает он, и ответ тоже будет с него, если что.
"Я не подведу, обещаю", - говорю ему взглядом.
Он выходит, медленно, оглядываясь, будто ожидая, что я прямо сейчас наброшусь на парня, почти мальчишку, и стану месить его кулаками.
Несколько минут ничего не происходит. Он сидит с закрытыми глазами, я разглядываю его лицо, ища в нем ответ, подсказку, знак. Пальцы накручивают в кармане удавку. Сейчас, вот еще чуть, и достану ее, ухвачу покрепче, подойду, наброшу на тонкую шею и буду стягивать, наблюдая, как синеет кожа, наливаются кровью глаза и вываливается багровый язык из тонкогубого рта. Наверное, ему будет страшно и больно, но его учили умирать. Их учили. В отличие от тех, кого убивали они.
Он открыл глаза, черные, как маслины. Я смотрел прямо в них, не двигаясь, не моргая, так долго, что смоль зрачков, казалось, разлилась, затопила его взгляд, выплеснулась на ресницы и потекла слезами по грязным щекам. Или это мои щеки мокры от ненависти, сжигающей изнутри? Если бы у меня было всего лишь одно желание, я попросил бы разрешения убить его голыми руками, отрывать от него куски плоти, за всех, кого не смогли уберечь в живых. Но он - один, последний из семнадцати проклятых. Я не позволю себе такую роскошь.
Он, вздрогнув, склонил голову. Все понял, все прочел. Как-то сразу съежился, сгорбился, устал и сник. Я вынул руку из кармана, зажав в ней фото, сунул ему в лицо, без слов. Он успел взглянуть в лица. Узнал... Тварь... Он узнал их. Там было много людей, сотни, женщин, детей, но я почему-то был уверен, что он узнает. Но не спрошу его ни о чем.
Еще неделю назад я бы, не раздумывая, привычно вмял кулак в его солнечное сплетение, как учили, резким, внутренним ударом, чтобы не оставлять следов. Он загнулся бы, закашлялся, задохнулся. Затем короткий удар ребром ладони по печени. А лучше всего - апчаги в прыжке - чтобы он вместе со стулом отлетел к стене, и влип в нее раздробленными ребрами. Жаль, нельзя убить дважды.
Еще неделю назад... Странно звучит. Тогда все было по-другому. И я был другим, или меня сейчас и вовсе нет - никакого? Тому Олегу все было ясно и просто: есть долг, работа, есть враги и друзья, семья, дом. Так жили мои родители, и так хотел прожить я. А пришел вот этот пацан, со своим пониманием жизни и смерти, и тоже выполнил свою работу, или долг - кто его разберет, что у него там? Пришел и лишил меня всего. Так же я мог прийти чуть раньше в его дом и разрушить его мир. Не гордился бы этим, а просто делал то, что считал нужным.
И ведь, опять же, был бы я нынешним, если беда не коснулась бы лично меня, обошла сбившейся с траектории пулей, пронеслась бы в миллиметре от виска? Наверное, перекрестился бы, поблагодарил Бога за то, что не я, не мой сын, не моя жена - но жил бы дальше. Не обошлось. Кого винить? Себя, пацана этого, Господа? Ничего не вернуть. Убей я его хоть трижды, ничего не вернуть. Сломался Олег. И весь мой мир, выложенный заботливо дедами-прадедами, рассыпался. А его мир только окрепнет от моей слабости. Убью сейчас - он не поймет, за что. Примет эту благодать из моих рук и будет героем. Родители будут им гордиться, и растить таких же, как он. Впрочем, чем я лучше?
- Нет бога кроме Аллаха, и Магомет - пророк его... - послышался шепот, такой тихий, что я вначале подумал, что брежу. Но нет, губы парня чуть шевелились. Ждет смерти... А я и убил его, сотни раз убил, ночами, вместо снов - каждого из них, проклятых, убивал всеми известными мне способами, и изобретал новые, и их, казалось, так мало. Душил и жег, вгрызался в горло и чувствовал вкус крови. Вместо боли - ненависть, но легче не становилось. Станет ли его агония спасением для меня?
- Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет - пророк его...
А ведь он верит, что попадет в свой долбаный рай, как герой, как праведник. Ему проще, у него есть бог. Тот, что не сказал ему: "Не убий", не заповедал: "Аз воздам", и не просил подставить правую щеку, когда ударят по левой. Его бог простит ему. А мой - мне? Как отпускаем мы должникам нашим... А не отпускаем, не сможем отпустить. Так же не отпустится и нам. Что мне от этого? Чем он может меня наказать? Хуже, чем сейчас, мне не будет. Я уже убил своего врага в воображении, все, что меня сдерживает сейчас - это мысль о том, что он ждет смерти, жаждет ее. Не доставлю такого удовольствия. Живи, мразь. Никто не убьет, знаю. Хоть желающих - сотни, тысячи. Будут бережно передавать из рук в руки, беречь, как зеницу ока, охранять похлеще американского президента. Потому что смерть - это так мало за то, что ты сделал. А мне... Ненависть - все, что осталось. Пока живет враг - будет жить и она. Значит, хоть что-то у меня будет...
Вышел на улицу, втянул прохладный воздух, закурил. Дрожь отпускала понемногу, возвращая в привычное состояние тупой ноющей боли. Мимо проходили знакомые ребята, здоровались, но не заговаривали, как, впрочем, все последние дни. Люди изменились. Глаза стали белыми от горя. Не осталось практически никого, кто не придавлен произошедшим.
Теперь я знаю все. Как они планировали, как проехали через посты, на какой машине и сколько их было. Знаю, а зачем мне это знание? Мы ждали в горах, а они прошли, не таясь, не прячась, оплатив проезд зелеными бумажками, оплатив чужие жизни. И взяли - наши же, взяли, закрыв глаза привычно шелестящей подачкой. Продали наших детей. Сколько было возможностей их остановить! Когда не ожидали, ехали по улицам, пропуская на переходах нарядных детишек с букетами, держащих за руки мам и пап. Но им будто помогал кто, и не нашлось на них ни одного дотошного гаишника. Тогда из репродукторов лилась музыка: "С чего начинается Родина". Малыши, радуясь, торопились на первый школьный звонок, а взрослые умилялись, глядя, как выросли дети за это лето. Последнее лето.
Ноги сами принесли меня туда, где я дневал и ночевал теперь. Здесь мне лучше, чем дома. Много людей, тенями бродящих, как и я, по развалинам, среди цветов и горящих свечей. И всюду - бутылки с водой, еда, игрушки, а на выщербленных пулями стенах - лица, лица... Мои тоже здесь. Вот, в верхнем ряду - двое, улыбаются, обнявшись. Я сам фотографировал, не зная тогда еще, что этому снимку не красоваться в семейном альбоме, а застыть последней памяткой на стене школы.
Здесь еще пахнет гарью, порохом, кровью и болью. И, наверное, этот запах не выветрится никогда. Что мы ищем здесь? Зачем приходим сюда, черные, мертвые, но преступно живые? Наверное, надеемся поймать их последний вздох, различить среди запахов смерти родной, ставший так остро нужным. В который раз прохожу вдоль обстрелянных стен, ища, может, хоть пары слов, нацарапанных на известке маленькой детской рукой или знакомым ровным почерком - ну хоть слово, как вы тут были, о чем думали, может быть, ждали меня, что приду и спасу вас. Милая, ты, наверное, держала на коленях сына и вполголоса рассказывала ему сказки, чтобы не бояться. Я кричал вам, кричал, когда меня держали наши же ребята, не пускали к вам, слышала ли ты? Я приехал, был рядом, в сотне шагов, знала ли ты об этом? Я кричал тогда. Сейчас не могу. Вот уже столько дней не могу произнести ни слова. Потому что, оказывается, мне не о чем говорить, когда вас нет. И незачем. Я - настоящий остался здесь, с вами, и вместе с вами умер под раскаленным железным дождем. Вместе с вами меня накрыло огненным штормом и залило горячей кровью лежащих на вас тел. А ты ведь закрыла Егорку, но тебя было так мало, милая, вот я бы закрыл вас обоих, и умер счастливым оттого, что принял на себя всю боль, не оставив вам ни капли.
Я надеялся до последнего. Мы прошли, прикрытые БТР-ом, застыли под окнами, каждый в душе моля бога - успеть, разглядеть в толпе малышей тех немногих, с поясами смерти, и выстрелить прямо в лицо, скрытое маской. Отчаяние крепло с каждой минутой. Мы слышали плач и понимали, что все решается сейчас. Они там, под горящей крышей, но плачут - живые еще. Все стоит перед глазами, как выбивали двери, так профессионально забаррикадированные партами, матерясь и проклиная себя за бессилие. Как шли по коридорам, натыкаясь на тела детей в одних трусах, и не было времени выть от боли. Мы работали. Как учили, как приказывали. Только каждый раз вздрагивал, боясь увидеть знакомые русые волосы и родинку на плече. Мы стреляли в зверей, держащих перед собой мальчишек, а смотрели в глаза детям, и видели в них смерть.
Я помню девочку. Ее выбросило взрывом из окна спортзала. Маленькая, лет семь, в белых трусиках, худенькая. Поднялась, качаясь, оглушенная. Мы кричали: "Ложись! Ложись на землю!". А она покачалась, уцепилась за раму и полезла обратно. Наверное, там оставалась мать. И мы понимали, что она лезет навстречу смерти. Кто-то спросил тихо: "Может, ей хоть ногу прострелить?". И в ответ: "Нельзя, винтовка, полтела оторвет". И уже с отчаянием: "Ну, может, хоть по стенам пострелять, отпугнуть ее?". Но она влезла. Фотограф, Дима, матерясь, снимал каждое ее движение, наверное, это были удачные кадры для репортажа. А минут через пятнадцать грянул третий взрыв.
И последнее - как вошли в спортзал. А там вповалку - трупы, много, обожженные, черные, и растаскивали их, ища выживших. И кричали имена. И я кричал. А потом нашел. Сам нашел. Вот и все. Последний осколок памяти.
Кто-то тронул меня за плечо, возвращая в реальность. Нехотя обернулся, встретился взглядом с Тимуром. Все знают, где меня искать. Прости, родная, мне пора. Но я вернусь, обещаю.
- Олег, ты едешь с нами?
Кивнул, пошел, на ходу пряча воспоминания, отодвигая боль на время. Мне нужно работать. Мне нужно жить.
- Приказ, брат. Прочешем ущелье. Там для них самый короткий путь во Владикавказ, с такой партией оружия они сейчас через посты не сунутся.
Тимур хороший парень, из местных, надежный, ответственный. Я понимаю, что не так уж необходим сейчас там ребятам, это он специально вытаскивает меня, чтобы не замыкался. Хоть у самого в больнице племянник и тетка. Но они хоть живы... Нет, все, собраться. Вслушиваюсь в его слова, попутно наблюдая пейзаж за окном. Помню, как восторгался, увидев впервые эти места. Эльбрус вдалеке, древний, величественный, гордый. Горы...Как мост между мирами - вековые камни, змеями меж ними скользят в узкой прощелине потоки воды, журчат себе, поблескивая на солнце, годы, века, тысячелетия. Почему же здесь, на этой красивой земле, столько крови?
Скалы, скрывающие тайный город внутри, со сложными ходами пещер - лучшее укрытие для бандитов, наркоторговцев, знающих эти катакомбы, как свои пять пальцев. Это нам тяжеловато наугад, наощупь, красться по зыбким каменистым тропам, на каждом шагу ожидая не растяжки, так пули снайпера.
- Это война, Олег. Проклятая война. Так было, так и останется, наверное. То ли люди так устроены, черт их знает, чего вечно делят. Здесь нефть, лакомый кусок. Значит, будет литься кровь. И будут гибнуть люди. Если каждый из нас раскиснет, враг станет сильнее. Я понимаю, тебе больно, но, как бы банально не звучало, время лечит. Никто не знает, где найдет свой край. Сотни людей умирают ежеминутно - не от пули, так от болезней и несчастных случаев. Судьбу не изменить.
Понимаю. Но неужели им всем: сотням, детей, женщин, мирным, здоровым, была судьба погибнуть так глупо? Кто так решил?
- Не знаю, чем можно утешить тебя. Но у нас в народе говорят, что такая смерть - мученическая, дает крылья ангелов. Радуйся тому, что они прожили счастливую жизнь, и их души в раю.
Рай, ад. Что мне до этого? У меня был рай - еще недавно, как оказалось. Пришел черед ада. Или чистилища?
- У нас есть приказ. Эти твари еще ходят по земле, и будут убивать снова и снова, если мы их не остановим. Если не мы - то кто? Соберись. Ты нам нужен. Ты нужен мне, брат.
Я молча кивнул. Ты прав, друг, на все сто прав. Я солдат. И у меня есть еще и долг. Перед теми, кто пока жив.
Машина остановилась в паре километров от заданной точки, дальше - короткими перебежками, прячась под нависающими глыбами, след в след друг за другом, чтобы не оступиться, не столкнуть ногой камни, грохочущие потом гулким эхом. И все это - под тяжестью АКМ, боекомплекта, брони, когда пот заливает глаза, а ноги нестерпимо ноют от напряжения. Но - не впервой. Старший дал отмашку. Пришли. Прижались спинами к теплому граниту, застыли, ожидая сигнала. Наконец, первый проскользнул в узкий пролом, за ним второй, третий... Пригнувшись, и я проскочил вслед за Тимуром, откатился, приткнулся к стене, привыкая к темноте.
Вскоре проступили неровные сводчатые стены пещеры с тусклыми бликами едва пробивающегося сквозь трещины в камне солнца. Замерев, слившись со скалой, ищу глазами ребят. Вот они, рассредоточились по укрытиям, как и я, замерли. Тихо так... Только вдалеке шумит водопад и звонко каплет вода в каменную чашу. Отсюда несколько ходов, старший жестами указал, кто куда пойдет, нам с Тимуром - в ближайший пролом. Приготовились, поднялись бесшумно, двинулись. Он впереди, я следом. Проход узкий, лишь бы не задеть автоматом стену, не заскрежетать. Впереди замаячил слабый свет. Тимур замер у входа в пещеру, осмотрелся, затем нырнул в нее. Секунду подождав, прыгнул и я.
Горы - особенное место. Приди я сюда просто так, полюбоваться, восхитился бы, как удивительно создала природа эти замысловатые пустоши в граните, занавесила их сталактитами, украсила редкими, но чистейшими озерами. Самое оно, чтобы почувствовать себя как на другой планете. И самое удобное место, чтобы спрятаться. Ходов видимо-невидимо, и из любого может смотреть на нас прицел снайпера. Они здесь, рядом, я чувствую. И тут тоже решает бог - кто из нас охотник, кто жертва?
Заглядевшись на затейливые каменные сосульки, забыл об осторожности. И опешил, увидев в двух шагах от себя человека с автоматом в руках.
Казалось, целая вечность прошла, пока он, заулыбавшись, медленно, не суетясь, подтягивал АКМ, поднимал к груди, а вот глаза его были черны и не отражали бликов. Наоборот, вначале показалось, что он вообще безглаз, лишь присмотревшись, я заметил и густые черные брови, и ресницы, и устремленный на меня цепкий взгляд.
Ничто не дрогнуло во мне, только откуда-то из живота пополз страх, животный, мерзкий. Руки вдруг онемели и не слушались. Понимал, что сейчас он поднимет оружие, нацелит, нажмет на курок, и я умру. Раньше мне не приходилось смотреть смерти в лицо вот так. Сотни мыслей пронеслись в голове. И Алена, и Егорка, и горящая школа, такие же, бородатые, черные, с тюрбанами на головах, боевики, прикрывающиеся детьми. Такие же, как я и Тимур, из плоти и крови, божьи твари, но разве это люди? Кто я ему - враг, убийца, или хищник против хищника? Почему-то подумалось, что и его кормила грудью мать, и он был маленьким кудрявым пацаненком, радующимся поспевшей шелковице и теплому ароматному хлебу из маминых рук. Где грань, отделяющая нас друг от друга? Пара шагов, и целый мир - мой против его. А могли бы не убивать. Могли бы строить дома и растить детей, и натирать мозоли рубанком и мастерком, а не автоматом. Это всего лишь наша работа. И у нас есть оправдание, перед собой и своей совестью. Я убью его. За всех тех, кого убивал он. Это закон жизни - кто-то стреляет первым. Страх ушел, словно и не было, рука сама вскинула автомат и пули вспороли его грудь так близко, что брызнувшая кровь окропила меня. Нелепо взмахнув руками, он отлетел, сполз по стене с недоуменным выражением на застывающем лице. Вот и я решил чью-то судьбу. Отомстил? Вряд ли. Будет ли мне легче оттого, что я тоже убийца?
Хорошо, Тимур дернул за рукав, и мы откатились к дальней стене, под прикрытие валунов, следом защелкали по камням выстрелы, обдавая нас острыми крошками. А положение-то хреновое. Мы заперты в углу, со всех сторон - своды пещеры, вверху - гроздьями сосульки, а над головами отбивают осколки автоматные очереди, посыпая нас дождем каменных градин, и эхо, отражая звук, канонадой потрясает и без того трясущиеся стены. Но мне почему-то стало так безразлично, и даже радостно, что все закончится сейчас. Надеюсь, место рядом с моими не занято, и меня похоронят с семьей, будет одна общая оградка.
Мы отстреливались, конечно. Тимур орал матом, перекрикивая треск очередей, я, молча, улыбаясь, и даже, кажется, смеясь, пускал поверх валунов трассирующие искры, добавляющие в дымном полумраке этому странному месту света. Переставляя рожок, замешкался, и вдруг, в грохоте, мне послышался голос жены. Не успев даже понять, что этого не может быть, дернулся, и тут же в стену ударила пуля. Туда, где была секунду назад моя голова. Что-то ужалило в шею, обожгло, я инстинктивно прижал руку и почувствовал, как потекли сквозь пальцы струйки пульсирующей крови. Ну, вот и все. Время будто замедлилось, стало вязким и густым, как кисель. Такое спокойствие накрыло, я поднялся в полный рост и стрелял во вспыхивающие точки, пока меня не откинуло тяжелым, будто кувалдой, ударом в грудь. И - темнота.
Свет был невыносим, просто ослепителен. То ли я растворялся в нем, то ли он вливался в меня, но яркость свечения пошла на спад и постепенно стало так, будто солнечным ясным днем. Я отвел руки, поморгал, сморщился, привыкая к свету.
- Папа!
С визгом, подпрыгнув, повис на моей шее Егорка. Я не устоял, сполз по стене, бережно придерживая сына.
- Ну вот, повалил папку, бесенок! Как теперь поднимать будем, такого большого?
Алена... Настоящая, живая, моя Аленка, в домашнем халатике, и руки в муке, наверное, пекла что-то. Подошла ко мне, смеясь, протянула руку, я машинально принял - теплая, мягкая, ее, точно ее рука! Сжал так сильно, что она удивленно посмотрела на меня. Поднялся, подтянул ее, обнял, теперь уже их обоих, собрал в охапку, так что сын даже запищал. А я, как бешеный, целовал, куда придется, и прижимал к себе.
Пусть все это бред, галлюцинации, но хоть минуту еще, хоть одну...
- Олежка, ну пусти, у меня там сгорит все. Ты прям как сто лет нас не видел.
Аленка вывернулась из рук, а Егорка, наоборот, устроился поудобнее, вознамерившись попасть на кухню верхом на мне. Я дома, и это наши оранжевые занавески, и на сковороде шкворчит мое любимое жареное мясо, а на столе подходит тесто. И за окном - лето, наше счастливое лето, на подоконнике - букет в вазе, такой большой, нарядный, и так в тон веселым цветастым обоям.
Сын легкий, почти невесомый, ерзает у меня на коленях, счастливый, улыбка до ушей, и на месте переднего зуба - дырка, наверное, выпал, когда меня не было. Взгляд с обожанием, соскучился, малыш. Сколько же я был в отъезде? Всего три дня. А ты так соскучился по мне, Егор Олегович...
Алена раскатывает тесто, и в такт движениям чуть колышется грудь под тонким халатиком. Прядка волос упала на лицо, но убрать нельзя - руки в тесте, сначала милая дунула на нее сердито, потом тыльной стороной ладони отвела в сторону, а прядь все равно дразнится, мешает. Босые ноги будто пританцовывают, и, когда она поворачивается к плите, полы халатика взлетают. Почему я раньше этого не замечал?
- Олежка, ты не забыл, какое сегодня число? Тридцать первое августа. Надеюсь, завтра пойдешь с нами, и не скажешь, что только заскочил собрать рюкзак?
- Конечно, пойдем, если не будет ничего срочного.
- Может, отключишь телефон на всякий случай?
- Так приедут и заберут, - ответил я, улыбаясь.
Жена нахмурилась, но промолчала, привыкла уже к моим внезапным командировкам.
- Вот вечно так, - пробурчала, больше по привычке. - Ни на море не выбрались, ни хоть к моим родителям в гости. Лето пролетело - а вспомнить нечего.
- В следующем году съездим. Не убежит от нас море, - подмигнул я сыну. - Зато обещают премию, купим что-нибудь совсем уж ненужное.
Сын задумался, очевидно, соображая, что бы выторговать себе в качестве моральной компенсации за мои частые отлучки, а я смотрел на Алену. Она расстроена, это видно. Мелькнула мысль - может, предчувствовала что-то? Где я проморгал, не подтвердил ее сомнения, не почуял сам опасность? Сынуля тем временем уже переключился на другую тему и опять потекла ручейком его торопливая веселая трескотня.
- А мы накупили столько всего! И тетради, и дневник, и ранец большущий! Пойдем, покажу!
Соскочив с моих коленей, Егорка потянул меня в свою комнату, я оглянулся, выходя из кухни. Алена стояла задумчивая, глядя в окно. Сердце защемило, но ни остановиться, ни сказать что-либо я не смог.
Восторженно комментируя каждую покупку, подавал мне сын свои тетрадки, карандаши, а я, как на расстреле, вздрагивал внутренне, видя подписанное рукой жены "ученика первого "Б" класса школы номер один", каждый раз - словно по пуле входило в сердце. А внешне - улыбался и говорил всякие глупости, типа, вот, тут, наверное, скоро будут красоваться пятерки. И смотрел на сына. А ведь он очень похож на меня...
Звонок в дверь показался оглушительным. И я знал, кто это может быть. Надеялся, что обойдется, не вызовут, дадут побыть с семьей.
- Привет, хозяйка! О, пироги! Стащу один?
Тимур схватил горячий беляш, заохал, перекидывая его из руки в руку, охлаждая, а Алена, хохоча, погрозила ему лопаткой.
- Саныч, поехали, будем ущелье прочесывать.
Я уже натягивал рубашку. Хоть переодеться успел.
- Что-то серьезное? - насторожилась жена.
- Да нет, очередная проверка. Надеюсь, к утру управимся, еще успеете вместе Егора в школу проводить.
И вот мы уже на пороге, я оглянулся - и замер, прощаясь. Алена прижала к себе сынишку, и он готовится заплакать, уже и губы надул, в глазах собрались озерца, обнял мамкину ногу, а и сам-то ростом ей по пояс. Она подняла руку, как обычно, а взглядом держит - не уезжай, останься, спи со мной рядом сегодня, и завтра, и каждый день будь здесь, ты мне так нужен...
Я улыбнулся, помахал в ответ, подмигнул сыну и вышел.
Во рту сухо. И что-то тянет меня, прямо по камням, и звуки все ближе, ближе.
- Ты что, командир, мы еще с тобой напьемся, вот увидишь. И на свадьбе моей погуляем, и будешь крестным отцом моего сына. И не такое переживал, и это переживешь. Только держись, брат, слышишь, держись!
Свет. Наш, обычный, солнечный свет, закатный, теплый. И голоса ребят.
- Давай, давай, быстрее, поднимай. Голову, голову придерживай. Подняли. Осторожно. Темыч, помогай.
Небо. Высокое, светлое, голубой шелк, а по нему - ватные облака. Такое реальное. А ведь это не так. За ним - темень космоса, Вселенная, бесконечная, полная таких же планет, как наша. И где-то, может, есть и такая, где собираются все, кто ушел. Когда-то приду и я. Но вы всегда будете со мной, в нашем последнем дне - самом счастливом моем дне. Зачем Бог вернул его мне? Наверное, это благословение свыше, прощение и награда. За что? Не знаю. Но теперь легче. Теперь я знаю, что и у меня он есть, он показал мне дорогу - и я пройду по ней, чтобы открыть дверь в наше лето однажды...
С трудом разлепив слипшиеся губы, прохрипел:
- Да живой я...
- Конечно, живой! - радостно откликнулся кто-то, кажется, Сергей. - Ты еще всех нас переживешь, братуха! Красавец, болтает уже! Держись, скоро будем на месте.
Потом долгая тряска в машине, и чьи-то руки заботливо смачивали мои губы водой, я жадно облизывал и, кажется, дремал. А может, просто устал от этих дней, невыносимо - медленных, выматывающих, оставшихся где-то в другой жизни. Той, где весело бегал по цветущему лугу, хохоча и гоняя ржавый обод колеса, босоногий, заляпанный кровью, бородатый кавказец с грязным тюрбаном на голове. Где молоденький, почти пацан, убийца, пил из кувшина молоко, и оно текло по губам, подбородку, собираясь каплями на редкой кудрявой щетине. А я подкидывал в небо Егорку, и ловил, смеясь, и рядом вставали другие мужики, и так же подкидывали своих сыновей. Сотни, тысячи. А наши женщины водили хоровод, взявшись за руки, с венками из полевых цветов на волосах - русых, черных, рыжих...
И в минуты коротких пробуждений думал: "А есть ли смысл во всем этом, если мы все равно встретимся?"
Осень опустилась как-то внезапно. Вот так открыл глаза однажды утром, посмотрел в окно, а там - осень. Встал, качаясь почему-то, на слабых ногах пробрел по сонному коридору, держась за стену, мимо стола дежурной медсестры, что спала, уютно устроившись на сложенных руках. Открыл дверь на улицу, и туман тут же шкодливо прошмыгнул мимо меня в темноту больницы. А я вышел, с трудом удержав тяжелую дверь, чтобы не грохнуть ею, прошаркал к щербатой каменной лестнице и опустился на ступеньки.
Самый рассвет. Сумрачно, но вот проступили верхушки гор, окрашенные первыми розовыми лучами. Потянуло дымом костра. И туман стал отползать потихоньку, не забыв оставить капельки сырости на больничном сером халате. Из бледной дымки проступили очертания человеческой фигуры. Кто это в такую рань?
Мальчишка - осетин с пакетом в руках, наверное, принес передачу кому-то. Лет десять, не больше. Худой, долговязый, держится, как взрослый, идет решительно.
- Дядь, закурить не будет?
Машинально прохлопываю карман, но нет, пусто. Развожу руками. Сокрушенно цыкнув зубом, пацан присел рядом, достал из кармана измочаленную пачку, выбил сигарету, ухватил губами, вытянул. Закурил, выпустил струйку дыма, белую, как туман. Посомневавшись, протянул мне. Я принял. Затянулся, с наслаждением вспоминая горький вкус табака. Закашлялся, горло обожгло болью, отдал сигарету, а сам прижал к шее повязку, согревая.
- А ты раненый, да?
Молчу, разглядывая, как обливаются солнцем верхушки тополей.
- Ну хоть не помер. Значит, долго жить будешь. Так мой дед говорил. Значит, ангелы тебя берегут, ага. Меня вот тоже... Я перед школой заболел, в речке перекупался. Завидовал своим, из класса, они-то встретятся, наболтаются, а я валяюсь с температурой. Мать с сестрой ушли на линейку, а отца нету у нас, он от рака, давно уже...
Я посмотрел на мальчишку. Он замолчал, затягиваясь. Так мы сидели, молчали, и сигарета выгорела до фильтра. Я достал из кармана фото, протянул ему. Он бережно принял, кивнул, мол, понимаю.
- Красивые...
И тихо, отдавая мне снимок: "Пусть земля будет пухом".
Достал из пакета банку с компотом, еще теплым, протянул мне.
- Возьми. Я матери еще сварю.
Я взял.
Он поднялся, прошел мимо меня к двери, постоял немного, потом обернулся и сказал:
- Я к тебе приходить буду, ладно? Бульон принесу, у нас куры свои.
И, не дожидаясь ответа, вошел в здание.
А я сидел на ступеньках, пил ароматный, вкусный домашний компот и думал. О многом.
Написать комментарий
|







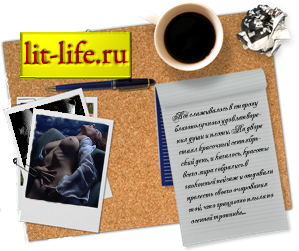


 ты всё правильно поняла!
ты всё правильно поняла!


 Образный, заг...
Образный, заг...











Комментарии
Мне всегда непонятно, когда они хвастаются: мы горцы, мы горные орлы, а вы все собаки. А потом эти "горные козлы" беременных баб на подоконник ставят, и стреляют из под подолов. Затем кинотеатр полный женщин и детей захватывают (ну хоть там сопли жевать не стали наши спец.службы). И вот Кизляр. С детишками легче воевать. И за их спины прятаться. Проще.
Остался один. Который за всех ответил. А может самый трусливый был? Жить хотелось. Сховался куда нибудь?
А вообще тех ГАИшников надо было рядом с ними посадить, что их пропустили за доллары. И семьи на Магадан, чтобы другим неповадно было. Больше бы не повторилось такого. Уверен. И фуры со взрывчаткой хрен бы в Москву проехали.
А вообще: Восток-дело тонкое!
На доске в учебном классе висела карта Афганистана. Занятия вел капитан, не по-армейски лощеный, с узким породистым лицом и ухоженными руками, не сходящей с губ иронической улыбкой и негромким голосом. Даже форма на нем сидела как-то по-особому.
— Минимум знаний, необходимый для общения с местным населением, вы почерпнете из этой памятки, — указал он на тощие брошюрки, лежащие на столе у каждого. — Но главное, что вы должны помнить, когда окажетесь по ту сторону границы, — вы находитесь в исламском государстве...
Пацаны скучали. Чугун, подперев щеку ладонью, мучительно боролся со сном. Лютый, прикрываясь учебной тетрадью, писал письмо. Джоконда рисовал портрет капитана: карикатурно длинный английский подбородок, кружевное жабо вместо воротничка над погонами. Стас и Ряба ухмылялись, поглядывая с двух сторон на рисунок.
— Ислам — не просто другая религия. Это другой мир, живущий по своим законам, другое отношение к жизни и смерти. Правоверный мусульманин не боится смерти в бою — тот, кто погиб, сражаясь с неверными, то есть с нами, немедленно попадает в рай, где его ждет то, чего не хватало в этой жизни: вода, плоды садов и пышногрудые девы — гури...
9 рота.
Значит детишки -неверные, женщины беременные-тоже неверные. И всех убийц в рай?!
Вчера ещё прочла, а сказать после прочтения и нечего, кроме того , что слёзы навернулись и ком в горле...
Всё хотелось понять, что движет такими людьми.
Со временем всё больше прихожу к мысли, что по большей части неразумность. То есть абсолютная неразвитость ума. Это на сколько же надо быть "дубовым", что бы не допускать даже мысли о других понятиях. И что будет, когда все "неверные" будут истреблены? Как "герои" будут попадать в рай?
Совершенно не понятно.
Я не призываю к какой либо вере, либо во всех находятся ахуенные изъяны. В том виде, каком они приподносятся нам, не стыкуются в моём понимании.
Просто хочется спросить:
- Люди, а зачем вам голова? Шапка носить?
Но как по мне - про такое писать обязательно надо. А вот забывать про такое нельзя.
Били. били, колотили морду в жо.... жосско в общем били.
RSS лента комментариев этой записи