|

Автор: Натализа
К Р Ы Л Ь Я

Начинать с диалога не комильфо. Первая фраза должна заинтересовать, повести дальше, заставить поверить, что именно о нем – читателе пойдет история. Грусть или радость, ненависть, или любовь – он должен почувствовать настроение, а иначе - что я за автор. Первая фраза…
Он позвонил в три ночи. Я хорошо запомнила это, потому что держала телефон в руках, наблюдая, как сменяются цифры на дисплее. Знала, что он позвонит? Нет. Ждала, но не знала.
- Разбудил?
- Да, – соврала, а зачем? Не хотелось, чтобы знал, что жду его звонка, даже и среди ночи.
- Прости.
- Ничего.
И молчим. С ним удивительно легко молчать. Он чувствует все, о чем думаю я, и я слышу его мысли. Или просто говорим сами с собой, а телефон у уха нужен, чтобы оправдать все нелепости, приходящие в голову?
- Я соскучился.
- А я палец порезала.
- Сильно? Болит?
- Болит. Еще как.
Болит, да. И вовсе не палец. И он знает.
- Пройдет.
- Да, пройдет.
Курю. Он запрещает. Дышу тихонько в сторону, и он делает вид, что не слышит. Пачка почти пуста, а до утра еще бесконечное молчание…
- Я не могу без тебя.
- Можешь.
- А ты?
- А я не могу.
- Тогда зачем…
- У нас снег выпал.
Злится. На себя злится. Что поделать, это уже работа – звонить и злиться. А за окном падает странно крупный для ноября снег. Это хорошо. Всю грязь покроет белым: хоть ненадолго, но побыть в чистоте. Завтра никуда не нужно идти, и послезавтра, и вообще – никуда больше не надо идти, и не замерзнут ноги, и не нужны перчатки, и не поймать языком красивые колкие снежинки. Буду пить чай и писать. Бесконечные рассказы ни о чем. Вернее, о нас. Но это одно и то же.
- Я приеду.
- Конечно.
Приедешь, чтобы помолчать? Войдешь, пропахший морозом и такси, скинешь куртку, сгребешь в охапку, зацелуешь, затормошишь. А я буду плакать… Я уже плачу, кажется. Да, так и есть. И потом налью тебе чаю. Поставлю Власову. Ты скажешь: «Ну что с тобой?». И я пожму плечами.
«Так и стой, и не надо ближе подходить…»
Я подумаю об этом завтра. О том, что скучаю по своим крыльям. Сейчас уже не верится, что они были. Куда она подевалась, та, что улыбалась мне из зеркала каждое утро? Мне нравились ее светящиеся глаза. И хотелось не идти – бежать по тротуару, и раскинуть крылья, и взлететь… как она.
А руки… Какие у него красивые руки… Любуюсь как его пальцы порхают по клавиатуре. Он мельком всматривается в монитор и печатает, печатает. Там, в вордовском файле он любит. Не меня. Или меня? Любит, бежит по свежему снегу от машины до подъезда, моля: ну только будь, будь… Снимает на ходу перчатки, тычет в темные кнопки домофона. И вздыхает облегченно на пороге, видя силуэт на фоне окна и снега за ним.
- Убей меня?
- Ты мне нужна живая…
А по пальцам – ток, бьет по коже, струится, плещется. Или просто ладони холодные?
А потом уютно, в старом кресле, читает мои рассказы. Бросает на полуслове, притягивает, целует.
- Моя…
- Хочешь чаю?
Я слышу, как он уходит. На пороге оглядывается, нужно что-то сказать, наверное. Я уже кручу в кармане пальцами сигарету, мысленно кричу ему – ну, иди уже, иди. Он прислоняется спиной к косяку, откидывает голову и просто смотрит в потолок. Я подхожу, целую, выталкиваю его за порог. Затем достаю сигарету, закуриваю и плачу.
С понедельника сажусь на диету. Решаю перекраситься в блондинку. Достаю старые джинсы, прикидываю – сильно ли будут смеяться прохожие? Бросаю, и понимаю, что простыла. Гадкое чувство – еще нет насморка и кашля, но уже больна. Может, их и не будет. А я уже болею. Мне нужна грелка. Обнять ее и лежать, пока не остынет. А может, напиться?
Звоню ночью – не ему. Ему нельзя. Молчу в трубку, но через пятнадцать минут визг тормозов у подъезда. Звонок в дверь. Не открываю. Стук. Да пошел ты! Теперь стук ногами. Поднимаюсь с корточек, открываю.
- Ты когда ела?
- Чай пила.
- Что за…
Он слишком гладкий. Плохо. Некрасиво – совсем гладкая кожа. У него нечувствительны соски. Но если закрыть глаза… Нет, все равно не то. Током не бьет.
- Смотри, у тебя две линии брака.
- А у тебя?
- Одна.
- И что это значит?
- Женись еще раз.
- На тебе?
- Нет. У меня одна линия.
- Ты когда дочке звонила?
Плачу.
Утром совсем разбитая. Забрала у него одеяло, он поджал голые ноги, придвинулся поближе, завозился недовольно, встал, ушел курить. Встаю, иду за ним, завернутая в одеяло, подхожу, беру у него сигарету. Он прикуривает новую. Гадко все это. Курить гадко. В горле противный комок. И тошнит. Может, похмелье? Вот ведь знаю, что гадко, а курю. И злорадствую – так тебе, давись, кашляй. Сама виновата.
Он приносит тапочки.
- Не стой босиком.
Назло не надеваю. Он обижается.
- Наташ!
Интересно, любила бы я его, будь у него волосы на груди? Смешно. А как сделать чувствительными соски? Но ладно. Ему пора. Скоро появится в сети любимый.
- В ванной кран бежит.
Я знаю. Он сделает. А мог бы и не он сделать. Но я не попрошу. Да все нормально. Я счастлива. Счастлива ждать, слышать шаги в подъезде, замирать, улыбаясь – угадала, но он всегда звонит с полпути. Не любит сюрпризов. И сейчас позвонит.
Так и есть. Хватаю трубку, улыбаюсь, убегаю в ванную – разговаривать. Млею, таю, и моментально выздоравливаю, и голос уже не хриплый. Из крана – вода, а из трубки – любовь, теплая, нежная. А за дверью – тот, другой, стоит, прислонившись спиной к двери, глотает слезы. Я знаю, чувствую. Зачем приехал? Ведь знает все. И я, отключив телефон, опускаюсь на корточки, сижу так, пока не хлопнет входная дверь. Подкидываюсь, бегу за ним, кричу в подъезд, он возвращается, а мне и нужно-то только сказать: «Прости». И он обнимает, жадно, судорожно гладит крылья, а перья с них сыпятся и, подхваченные сквозняком, носятся по подъезду. И босым ногам холодно…
Пишу рассказы. Руки в муке – пекла пирожки. Его любимые, с мясом и с капустой. Клавиатура белая, букв не видно, а я и так знаю, где какая, пишу, пишу, и гора пирожков растет на тарелке. Он приезжает вечером, и я бегу в подъезд, ловлю его губы и не отпускаю, и глаз не закрываю, смотрю в его – шоколадные, сладкие, грустно-счастливые.
Потом делим последний пакетик чая на двоих, хохочем, чокаемся бокалами и дурачимся. И я совсем забываю, что сигареты давно кончились, и кормлю его сама, пальцами даю кусочки ему в губы, лишь бы коснуться, удариться током…
Ночью смотрю на него, спящего, такого милого, глажу тихонечко морщинки у глаз, и понимаю, что нет ничего красивее их. А он не спит, лежит, закрыв глаза, притворяется, чтобы вдруг схватить меня, притянуть, поцеловать. А я смеюсь.
Утром встаю, потягиваюсь, расправляю крылья – на всю комнату, белые, а рассвет их поливает золотом…
Еще целый день вместе. Гулять, обнявшись, по городу, заходить в маленькие магазинчики, он уговаривает меня примерить то одно, то другое. Я, смеясь, отказываюсь. Он обижается, я целую его в нос, и он прощает. Пьем чай в кафе, за столиком у окна, а руки на столе сплетаются, пальцы будто живут своей жизнью, он гладит мои, я – его, и чай такой вкусный…
Провожаю его до автобуса. Он тихо матерится, и хочет закурить и выпить. Не смотрит на меня, а я глажу рукав его куртки, и думаю: «Как же дожить до завтра?». Он вбегает в автобус перед самым отбытием, успевает дойти до своего кресла, смотрит на меня сверху вниз. Я улыбаюсь, машу ему рукой и рисую всякие дурацкие знаки. Мол, позвони, напиши. Он кивает. Автобус трогается, и мне безумно хочется, чтобы он остановился еще, поцеловать, кажется, один поцелуй так и остался между нами. А он едет, едет, и в душе у меня натягивается струна, будто другой ее конец – там, в салоне.
Потом бреду по городу, бесцельно, пиная попадающие под ноги старые листья, чудом выжившие после снега, и пустые бутылки.
Щелкаю замком, вхожу в квартиру, включаю свет и вижу на столе два бокала, и тарелку с недоеденными пирожками. Выбрасываю их в мусорку, и пушистой пеной смываю его губы с бокалов, и его смываю. Постель перестилаю, напоследок затянувшись его запахом с подушки. Забрасываю в стиралку, засыпаю порошок, включаю, зачем-то прощально машу завертевшемуся в стеклянном окошке многоцветью.
Сплю, напившись корвалола, без снов, высыпаюсь, но опять разбитая. Работаю, и снова становлюсь той – прежней. Машинально выслушиваю, раскидываю, рассказываю, советую, грею. Сгребаю за ними купюрки, прикидывая, что нужно купить. Заварку, сигарет, сыр… Вот и последний клиент, и можно попить чаю. А руки вдруг сами тасуют карты, сдвигают на себя, раскладывают. Тупо смотрю на картинки, забывая, как дышать. Собираю, достаю сигарету трясущимися пальцами, верчу, и понимаю, что больше не буду курить. Раскладываю еще раз, и еще, теперь уже на него, и сердце бьется где-то в животе.
Вот и все. Иду по улице, улыбаюсь, и прохожие тоже улыбаются, глядя на меня. Наверное, глаза у меня светятся. Покупаю торт со сливками. Замираю у кассы, глядя на то, что мне нужно. Страшно. Беру, зажмурившись.
Вечером сижу на подоконнике, смотрю с высоты восьмого этажа на белый город. На столе чуть порушенный чайной ложкой тортик, в бокале недопитый чай, и крылья шуршат по полу.
Нелетная погода…
Ненавижу Новый Год. Не-на-ви-жу. И что меня тянет постоянно, год за годом, бродить по улицам, среди людей, вываливающихся из супермаркетов, как потрошеные куры с конвейера птицефабрики с елками, завернутыми в целлофан, с пакетами, глянцевыми коробками, тортами и бутылками шампанского? Армия клонов, блестяще-шуршащих, со злыми, измученными лицами, с хнычущими где-то под ногами детишками. И повсюду музыка, иллюминация. Праздник Больших Распродаж, хаванья всего подряд с жирных, лопающихся под тяжестью всякого дерьма прилавков. Забавляют безумные глаза теток, судорожно напихивающих в бесплатные пакеты подгнивших апельсинов под красным ценником, перечеркнутым, с подписанной новой ценой на два рубля меньше. Халява! Два рубля! И всюду – толпы, толпы… Не опоздай, потрать все, что скопил, получил, заработал. Последний шанс опустошить кошелек! Давай, все подряд, то, что первого января окажется вовсе и не нужным, съеденным, выпитым, распотрошенным, и без блестящей упаковки не таким уж привлекательным. Примету «как встретишь Новый Год – так его и проведешь» придумали коммерсанты. Это их лучший маркетинговый ход. Внушить толпе, что чем больше их кровных, любовно пересчитываемых купюрок окажется в карманах продавцов, владельцев торговых точек, тем лучше и замечательнее будет их жизнь в предстоящие двенадцать месяцев. И непременно нужно в полночь плюхнуться за стол, способный удовлетворить голод роты солдат, в непременно новой, определенного цвета одежде, и пусть до этого все перегрызлись и обгадили друг друга вдрызг, но прямо вот под бой курантов выпить вонючей шипучки – и все будет супер. А потом, в пять, десять, пятнадцать минут первого можно сказать козлу вонючему, что он, тварь, весь праздник похерил, и детей подставил, и маму, и всю родню. А вонючий козел, уже надравшийся в стельку, и оттого счастливый и бесшабашный, весело пошлет и жирную корову, и ее маму-старую клюшку, и детей – выродков и рухнет мордой в «Оливье» с майонезом Калве, самым насыщенным и изготовленным только из натуральных продуктов, таких полезных для измятой, прокисшей с трехдневного запоя рожи. Если бы все эти приметы сбывались, то весь январь страна провела бы в обнимку с унитазом, февраль – на анальгине с аспирином, март – за судорожным подсчетом оставшейся в карманах мелочи, а уж с апреля, может быть, захотела бы работать.
Но это так, лирика.
А пока что – Хеппи Нью Йер, по улицам бродит такое количество Дедов Морозов со Снегурочками, что желаний не хватит, чтобы они могли их исполнить. А не исполнят ни одного. Что не помешает им неплохо заработать.
Поддавшись какому-то бредовому желанию, покупаю еловую ветку и пару блестящих гирлянд. Зачем? Не знаю. Денег в обрез, а нужно еще столько всего. А, ерунда. Дожить до первого января, а там и трава не расти. Прохожу с этой веткой, как дура, в потоке таких же идиотов, мимо витрин магазинов, смотрю, как толпятся мужики у прилавков с ювелиркой, парфюмом, лификами-трусами, и завидую, блин. Такая быдлятская привычка. Кто знает, будь у меня кто-то, ради кого стоило провести два дня у плиты, может, я так же стояла бы в той же очереди с баулами, полными всякой фигни. И что – радоваться или плакать? Плюсы и минусы можно найти в любом обстоятельстве. Иду налегке с дебильной еловой веткой, не надрываясь под тяжестью авосек – это плюс. Проведу тихий спокойный вечер у телеящика, наблюдая ярмарку дебилизма и жалкие потуги телеголубков на творчество. Это тоже плюс. Проснусь утром первого января без похмелья и головной боли – еще один. О минусах умолчу, не буду портить хорошее, злорадное настроение.
И вот, наконец, дома. В трехлитровой банке с водой устроилась типа-елочка, на тарелке расположились выгодные апельсины, сэкономившие мне два рубля, в холодильнике прокисает торт и остывает дешевое шампанское.
Глядя с высоты восьмого этажа на ползущих по тротуару мелких, как муравьи, людей – парами, выть хочется. Или это от музыки в наушниках?
«Где твои крылья, которые нравились мне?»
За восемь часов до полуночи – звонок. Подрываюсь, хватаю трубку.
- Алло!
- Наташ…
Не он. А он и не позвонит.
- Что?
- Так нельзя, Нат. Сегодня же праздник, можешь ты хоть один раз побыть нормальным человеком?
Криво ухмыляюсь.
- Нормальным? Это как?
- А так. Приходи, встретим, как положено, в семье.
- Как обычно? Нет уж, спасибо.
- Ну, обо мне не думаешь, хоть дочку пожалей. Она-то чем виновата? Она ждет мать, понимаешь? Ты ей нужна.
- Не трави душу.
Пусть он замолчит, ну пожалуйста… Нужна… Да никому я не нужна, никто нигде не ждет, а дочка привыкла без меня, и каждый раз после встречи только плачет. И я плачу. Что я могу ей предложить? Безумную мамашу, полдня проводящую на подоконнике, а полночи – рвущую остервенело перья из растрепанных крыльев? И знаю, она устанет от меня через неделю, а я от нее – еще раньше, и не смогу ей дать того, чего ей хочется, моих полетов она не понимает…
- Наташ… Ну когда это кончится? Мы же жили нормально, пока ты не стала заниматься этой хренью!
- Это не хрень.
- Хрень, Наташ. Ладно бы, деньги зарабатывала, как все, а то просто тратишь время на разных уродов.
- Эти уроды – нуждаются во мне. Если бы не я, может, половина из них уже попрыгали бы с крыш и перерезали вены. Некуда им пойти, никто не выслушает и не согреет.
- А мы? Нам тоже нужно, чтобы нас выслушали и согрели.
Пустой разговор. Кладу трубку.
«Я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине»…
За шесть часов до полуночи – смс.
«Поздравляю с Наступающим. Желаю любви, большой, настоящей, чистой, как ты»
У него все хорошо. Я знаю, чувствую. Он в компании самых родных, близких, за накрытым столом, и я знаю, он не будет пить, чуть пригубит, может, а в полночь поцелует любимую жену, пожелает ей много-много таких вот счастливых, красивых и радостных лет. С ним.
Набираю знакомый номер.
- Я еду.
За пять часов до полуночи целую макушку моей девочки, задыхаюсь в тисках ее ручек, накрепко сжавших меня. В зале горит огнями гирлянд огромная елка, на столе – салаты, колбаса, пожаренная как попало курица. В общем, вот она – нормальная жизнь. Счастливые глаза мужчины, которого называла своим. Я еще не забыла, почему перестала его так называть?
Звук открываемой бутылки. Булькает коньяк, наполняя хрустальную рюмку.
- Не пей, пожалуйста.
- Я чуть-чуть, ради праздника.
Зачем приехала? Дура. Но поздно.
За час до полуночи сижу, тупо глядя на мигающую елку.
- Ну что, доча, довольна, что мамочка приехала? Смотри, как она с тобой хочет пообщаться, даже рта не раскрывает. Правильно, на хрен мы ей сдались, ей же там интереснее, чем с родной дочерью. Поди, хахаль отказал, вот она к нам и сунулась.
- Папа, не надо!
- Надо, надо, дочь, слушай. Что - правда глаза колет?
- Пап, не пей больше!
Дочка плачет.
- Да я ж пью-то из-за чего? Из-за нее, суки, всю душу она из меня вынула! Смотри, мразь какая, строит тут из себя святую, а сама ни хрена не может, только ноги раздвигать перед кем попало. Стишки она пишет! Писательница, блин! Нормальные бабы работают, как положено, и дома сидят, а не носятся по квартирам. Есть дом – вот и сиди дома, или иди на хрен, и не мешай нам жить нормально.
- Ты сам меня позвал.
-Я?! Да ты сама, сука, должна была приехать, без приглашения! Иди, носки постирай! Что - явилась на все готовое? А ты денег принесла, или пришла жрать на халяву? Хоть бы дочке подарок купила, мать называется.
Стиснув зубы, молчу.
- Не можешь работать – иди на панель, или найди любовника богатого, или ты и на это не способна?
Подрываюсь, иду к двери. Все, хватит.
- Куда?!
- Отпусти, я ухожу.
- Ага, размечталась. Решила ребенку весь праздник испортить? Иди на место, тварь, и не рыпайся. Пришла – так и сиди по-человечески.
Предел.
- Послушай, сколько можно? Ты мне не муж, я тебе не жена. Что ты от меня хочешь? Я не могу быть той, которая тебе нужна. Ненормальная я, понял? Найди нормальную и живи с ней.
Пощечина. Больно.
- Папа! Не надо, папочка, пожалуйста!
Дочка повисла на его занесенной для удара руке, какая же она сильная, маленькая моя. Но бесполезно, глупышка, он не успокоится, пока не выплеснет всю свою ненависть. Отпихиваю ее в зал.
- Иди, малыш, мы сейчас поговорим и успокоимся.
Она дрожит, боится.
- Иди-иди, все будет хорошо.
Закрываю дверь за ней, беру сигарету, закуриваю. Затянулась пару раз, затушила, повернулась к нему.
- Ну, продолжай.
- Что продолжать?
- Выговорись, легче станет.
- Легче? Ты знаешь, от чего мне станет легче? Если я убью тебя, сука, прямо здесь размажу по стене, за все, что ты сделала.
- Убей.
Не убьет. Не потому, что боится, а потому, что как же ему пусто станет без меня, без своей ненависти, без такой странной, больной любви. Так и есть. Подходит, наматывает на кулак мои волосы, откидывает голову назад, натянутый, как пружина, замахивается… и бьет кулаком в стену, отчего сыпется штукатурка и трещат обои. Разворачивается, уходит.
За пятнадцать минут до полуночи.
- Прости меня, малыш. Прости. Я не хотел, ты же знаешь. Люблю тебя, дуру. Не могу без тебя, понимаешь? Я умру без тебя, хочешь, прямо сейчас выпрыгну с балкона?
- Не нужно. Я верю.
Это уже было, и не раз. Не выпрыгнет.
- Ну, что ты хочешь, чтобы я сделал?
- Давай встретим Новый Год тихо и спокойно, больше ни о чем не прошу.
Кивает, покачиваясь, уходит в зал.
За минуту до полуночи.
- Мамочка, поздравляю тебя с Наступающим, и желаю, чтобы у тебя все-все получилось, чтоб ты была счастлива, здорова, и чтобы тебя обязательно напечатали.
- Спасибо, малыш. И я тебе желаю счастья. Все будет хорошо. Верь.
- Я верю. У меня же мама волшебная.
Четыре часа утра нового года.
Холодные руки скользнули под футболку, в ухо – тяжелое дыхание, и от запаха перегара нечем дышать. Он дрожит от возбуждения, я не чувствую ничего. Забавно, как одни и те же действия, но с разными мужчинами дают совершенно обратный результат. Сейчас мне неприятно. Не-приятно. Казалось бы, почему? А вот так. Отказаться? Не получится, он пьян, и уже абсолютно без тормозов. Возьмет силой. Чтобы отвлечься от поганого чувства безволия, представила, что это не он меня гладит, щупает, мнет, целует. Кажется, помогает. Выдержать как-нибудь и уйти, когда он уснет.
Интересно, он намеренно мне причиняет боль, или не может иначе? Стиснув зубами подушку, зажмуриваюсь, терплю, пытаясь думать о чем-то отвлеченном.
«Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне?»
Шесть часов утра. Сижу в коридоре у закрытой на ключ двери и курю.
Он выходит, помятый, будто состарившийся сразу лет на пятьдесят. Опускается на корточки рядом.
- Открой дверь, я уйду.
Мотает головой. Понятно, все пошло по плохому сценарию. Теперь сидеть с ним взаперти, пока не образумится. Начало трясти, то ли от злости, то ли от страха. Боже, зачем я приехала? Зачем расслабилась и поверила, что мы можем общаться спокойно? Горбатого могила исправит. Так, что теперь делать? Он сидит, довольный, ухмыляется, наслаждается своей властью надо мной. Звонить кому-то бесполезно, не откроет. Господи, телефон! Похолодев, стараюсь не выдать себя, встаю, прохожу в зал, найти трубку. Куда я ее вчера сунула? Он не входит, это уже хорошо, дает надежду. Обыскав все, что могла, застываю от страшной догадки. На негнущихся ногах выхожу в коридор и вижу его, читающего мои смс-ки.
Увидев меня, усмехнулся и с размаху запустил трубкой о стену. На шум прибежала дочка, вытаращилась спросонья.
- Что случилось?
- Ничего, маленький, это у мамы телефон упал нечаянно.
Смотрю на разлетевшиеся по полу части телефона и хочу расправить крылья и улететь отсюда, прямо сейчас, и подальше. Туда, где никто и никогда не заставит меня прийти сюда еще раз.
Второе января. Лежу, отвернувшись к стене. Он пьет, второй день подряд, бродит по комнатам, как призрак, изредка гремя на кухне пустыми бутылками. Периодически порывается опять что-то выяснять, но видя, что я не реагирую, машет рукой и уходит. Я слышу, как он плачется дочке, рассказывая, какая я плохая и как он со мной мучается. Потом они вместе смотрят мультфильмы и он пьяно плачет, напоказ, наигранно и громко. Дочь его уже не утешает, привыкла. Ночью опять пытается приставать, но, к счастью, вырубается. Потихоньку встаю, обшариваю его карманы. Пусто. Дверь металлическая, не открыть. У дочки ключа нет.
Третье января.
- Пошла вон! Убирайся отсюда, шлюха! И забудь сюда дорогу, поняла?
В подъезд летят мои вещи, пальто, сапоги.
- Дочь, пойдем со мной?
Качает головой.
-Нет, мам. Я его одного не оставлю. Ты ж его знаешь, вдруг что-то сделает с собой?
Плачет. Блинство! Ну за что это нам?
- Пошла вон, я сказал! Или тебя вышвырнуть?
Прохожу мимо него, напоследок получаю удар между лопаток, и дверь за мной захлопывается.
Четвертое января.
Сижу на подоконнике восьмого этажа, пью чай, глядя, как густо падает снег. Рядом - склеенный на скотч телефон, сотню раз проверяю, работает ли, чтобы не пропустить смс . От звонка вздрагиваю, хватаю, нажимаю кнопку вызова.
- Алло!
- Наташ…
Бросаю трубку. Ничего нового. Протрезвел, переболел, и теперь не поверит, что все это было. Ну, хоть одна радость – за дочку можно не волноваться.
Шестое января.
Читаю снова и снова несколько слов на экране телефона, и на сердце тепло, губы растягиваются в улыбку, и я вижу, чувствую его, любимого, родного – далеко, счастливого, теплого…
«Люблю тебя»… И хочется верить.
Звонок.
- Алло!
- Помогите, пожалуйста. Мне больше не к кому обратиться, - девушка на том конце провода плачет. – Я не могу больше так, мне плохо. Жить не хочется.
- Приезжайте.
Диктую адрес, кладу трубку, потягиваюсь, расправляя крылья. Смотрю на себя в зеркало. Пусть приезжает, помогу, согрею, успокою. Это моя работа. Подмигиваю, отражение в зеркале улыбается…
Написать комментарий
|







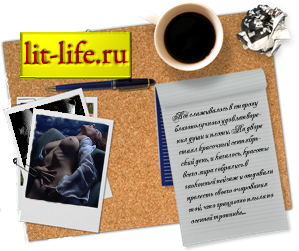

 Очень даже в тему. Д...
Очень даже в тему. Д...










